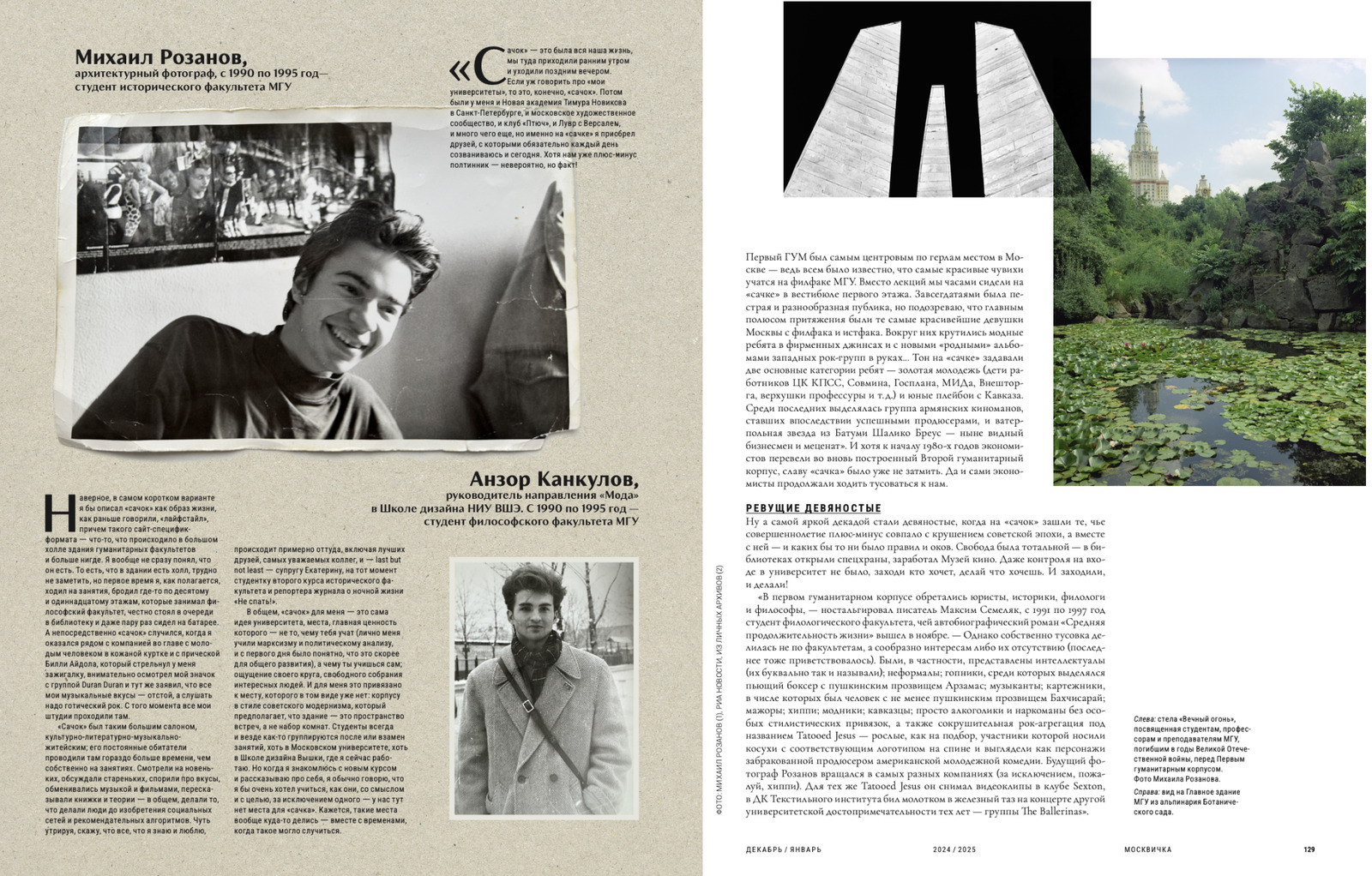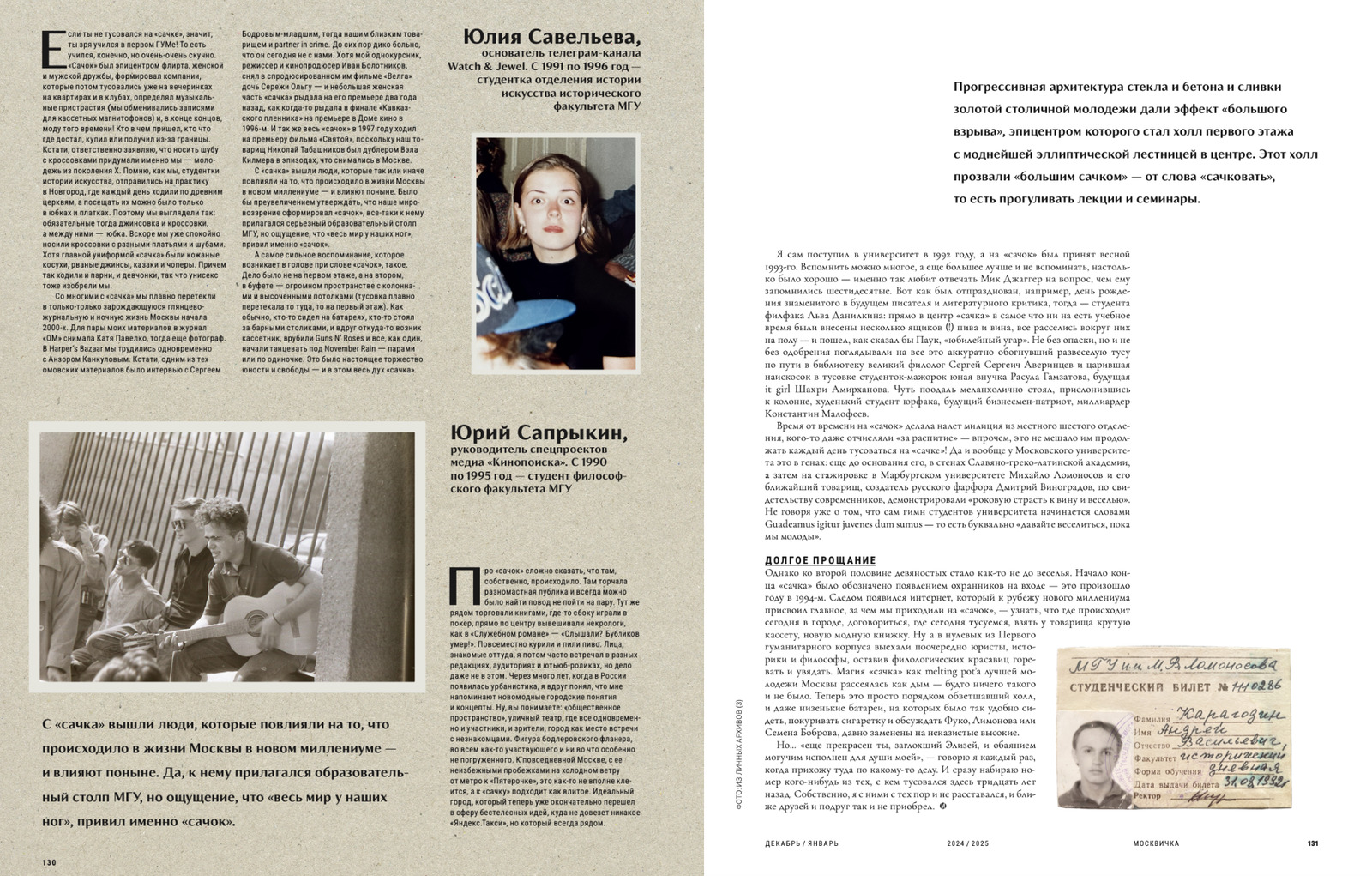Политика большого сачка
«Нам целый мир чужбина; отечество нам Царское Село». Надо ли говорить о том, как важна для человека дружба со студенческой скамьи? Надо ли — о гонке гребцов Оксфорда и Кембриджа, что проводится уже двести лет? О «большой тройке» студенческих обществ Йеля, где столетиями пестуется американская элита, Рокфеллеры и Вандербильды, так что на президентских выборах 2004-го заклятые конкуренты Буш и Керри оказались выходцами из одного и того же братства «Черепа и костей»?! О разнузданном веселье во время посвящения в братство Лейденского университета, так красочно воспетом в «Оранжевом солдате» Пола Верховена?
Надо, потому что вся эта элитная красота стремительно уходит в Лету. Дэвид Финчер в своей «Соцсети» все объяснил: умный еврейский мальчик Цукерберг, попав в Гарвард, догадался, что важнейшую функцию топ-университета — формирование социальных связей — теперь можно просчитать и перенести в онлайн и еще и неплохо на этом заработать. Цукерберг стал миллиардером, а элитные студенческие братства, куда было не попасть, стали превращаться из инструментов контроля над миром в музейный экспонат. В эпоху Веб 2.0 социальные связи вырабатываются повсеместно: перефразируя Энди Уорхола, у каждого есть свои пять минут Гарварда или Йеля, и в университет сегодня идут уж точно не за этим.
Хорошо это или плохо, рассудит история, но я уже вижу, как зумеры дико завидуют нам, поколению Х, последнему кого была великая эпоха осязаемых, а не виртуальных соцсетей. Да и миром пока еще, слава богу, правят те, кто вырос офлайн, в веселых компаниях, а не в чатах телеграма.
ЯНГ ЭНД ХОТ
Первый Гуманитарный корпус МГУ — параллелепипед из стекла и бетона на проспекте Вернадского по проекту архитектора Александра Хрякова — открыли в 1970 году. Из старых зданий университета на Моховой улице сюда перевели историков, филологов, юристов, философов и экономистов. Прогрессивная архитектура и мощнейший замес передовой столичной молодежи сразу дали эффект «большого взрыва», эпицентром которого стал холл верного этажа с эллиптической лестницей в центре. Этот холл прозвали «большим сачком» — от слова «сачковать, то сеть прогуливать лекции и семинары.
«В 1975 году я поступил на отделение экономической кибернетики экономического факультета, — вспоминал музыкальный продюсер Александр Чепарухин. — Первый ГУМ был самым центровым по герлам местом в Москве — ведь всем было известно, что самые красивые чувихи учатся на филфаке МГУ. Вместо лекций мы часами сидели на «сачке» в вестибюле первого этажа. Завсегдатаями была пестрая и разнообразная публика, но подозреваю, что главным полюсом притяжения были те самые красивейшие девушки Москвы с филфака и истфака. Вокруг них крутились модные ребята в фирменных джинсах и с новыми «родными» альбомами западных рок групп в руках... Тон на «сачке» задавали две основные категории ребят — золотая молодежь (дети работников ЦК КПСС, Совмина, Госплана, МИДа, Внешторга, верхушки профессуры и т.д.) и юные плейбои с Кавказа. Среди последних выделялась группа армянских киноманов, ставших впоследствии успешными продюсерами, и ватерпольная звезда из Батуми Шалико Бреус — ныне видный бизнесмен и меценат». И хотя к началу 1980-х годов экономистов перевели во вновь построенный Второй гуманитарный корпус, славу «сачка» было уже не затмить. Да и сами экономисты продолжали ходить тусоваться к нам.
РЕВУЩИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
Ну а самой яркой декадой стали девяностые, когда на «сачок» зашли те, чье совершеннолетие плюс-минус совпало с крушением советской эпохи, а вместе с ней — и каких бы то ни было правил и оков. Свобода была тотальной — в библиотеках открыли спецхраны, заработал Музей кино. Даже контроля на входе в университет не было, заходи кто хочет, делай что хочешь. И заходили, и делали!
«В Первом гуманитарном корпусе обитали юристы, историки, филологи и философы, — ностальгировал писатель Максим Семеляк, с 1991 по 1997 год студент филологического факультета, чей автобиографический роман «Средняя продолжительность жизни» вышел в декабре. — Однако собственно тусовка делилась не по факультетам, а сообразно интересам либо их отсутствию (последнее тоже приветствовалось). Были, в частности, представлены интеллектуалы (их буквально так и называли): неформалы; гопники, среди которых выделялся пьющий боксер с пушкинским прозвищем Арзамас; музыканты; картежники, в числе которых был человек с не менее пушкинским прозвищем Бахчисарай; мажоры; хиппи; модники; кавказцы; просто алкоголики и наркоманы без особых стилистических привязок, а также сокрушительная рок-агрегация под названием Tatooed Jesus — рослые, как на подбор, участники которой носили косухи с соответствующим логотипом на спине и выглядели как персонажи забракованной продюсером американской молодежной комедии. Будущий фотограф Розанов вращался в самых разных компаниях (за исключением, пожалуй, хиппи). Для тех же Tatooed Jesus он снимал видеоклипы в клубе Sexton, в ДК Текстильного института бил молотком в железный таз на концерте другой университетской достопримечательности тех лет — группы The Ballerinas».
Я сам поступил в университет в 1992 году, а на «сачок» был принят весной 1993-го. Вспомнить можно многое, а еще большее лучше и не вспоминать, настолько было хорошо, — именно так любит отвечать Мик Джаггер на вопрос, чем ему запомнились шестидесятые. Вот как был отпразднован, например, день рождения знаменитого в будущем писателя и литературного критика, тогда — студента филфака Льва Данилкина: прямо в центр «сачка» в самое что ни на есть учебное время были внесены несколько ящиков (!) пива и вина, все расселись вокруг них на полу — и пошел, как сказал бы Паук, «юбилейный угар». Не без опаски, но и не без одобрения поглядывали на все это аккуратно обогнувший развеселую тусу по пути в библиотеку великий филолог Сергей Сергеич Аверинцев и царившая наискосок в тусовке студенток-мажорок юная внучка Расула Гамзатова, будущая it girl Шахри Амирханова. Чуть поодаль меланхолично стоял, прислонившись к колонне, худенький студент юрфака, будущий бизнесмен-патриот, миллиардер Константин Малофеев.
Время от времени на «сачок» делала налет милиция из местного шестого отделения, кого-то даже отчисляли «за распитие» — впрочем, это не мешало им продолжать каждый день тусоваться на «сачке». Да и вообще у Московского университета это в генах: еще до основания его, в стенах Славяно-греко-латинской академии, а затем на стажировке в Марбургском университете Михайло Ломоносов и его ближайший товарищ, создатель русского фарфора Дмитрий Виноградов, по свидетельству современников, демонстрировали «роковую страсть к вину и веселью». Не говоря уже о том, что сам тими студентов университета начинается словами Guadeamus igitur juvenes dum sumus — то есть буквально «давайте веселиться, пока мы молоды».
ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ
Однако ко второй половине девяностых стало как-то не до веселья. Начало конца «сачка» было обозначено появлением охранников на входе — это произошло году в 1994-м. Следом появился интернет, который к рубежу нового миллениума присвоил главное, за чем мы приходили на «сачок», — узнать, что где происходит сегодня в городе, договориться, где сегодня тусуемся, взять у товарища крутую кассету, новую модную книжку. Ну а в нулевых из Первого гуманитарного корпуса выехали поочередно юристы, историки и философы, оставив филологических красавиц горевать и увядать. Магия «сачка» как melting роt’a лучшей молодежи Москвы рассеялась как дым — будто ничего такого и не было. Теперь это просто порядком обветшавший холл, и даже низенькие батареи, на которых было так удобно сидеть, покуривать сигаретку и обсуждать Фуко, Лимонова или Семена Боброва, давно заменены на неказистые высокие.
Но... «Еще прекрасен ты, заглохший Элизей, и обаянием могучим исполнен для души моей», — говорю я каждый раз, когда прихожу туда по какому-то делу. И сразу набираю номер кого-нибудь из тех, с кем тусовался здесь тридцать лет назад. Собственно, я с ними с тех пор и не расставался, и ближе друзей и подруг так и не приобрел.
Михаил Розанов, архитектурный фотограф, с 1990 по 1995 год студент исторического факультета МГУ:
«Сачок» — это была вся наша жизнь, мы туда приходили ранним утром и уходили поздним вечером. Если уж говорить про «мои университеты», то это, конечно, «сачок». Потом были у меня и Новая академия Тимура Новикова в Санкт-Петербурге, и московское художественное сообщество, и клуб «Птюч», и Лувр с Версалем, и много чего еще, но именно на «сачке» я приобрел друзей, с которыми обязательно каждый день созваниваюсь и сегодня. Хотя нам уже плюс-минус полтинник — невероятно, но факт!
Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. С 1990 по 1995 год - студент философского факультета МГУ:
Наверное, в самом коротком варианте я бы описал «сачок» как образ жизни, как раньше говорили, «лайфстайл», причем такого сайт-специфик-формата — что-то, что происходило в большом холле здания гуманитарных факультетов и больше нигде. Я вообще не сразу понял, что он есть. То есть, что в здании есть холл, трудно не заметить, но первое время я, как полагается, ходил на занятия, бродил где-то по десятому и одиннадцатому этажам, которые занимал философский факультет, честно стоял в очереди в библиотеку и даже пару раз сидел на батарее.
А непосредственно «сачок» случился, когда я оказался рядом с компанией во главе с молодым человеком в кожаной куртке и с прической Билли Айдола, который стрельнул у меня зажигалку, внимательно осмотрел мой значок с группой Duran Duran и тут же заявил, что все мои музыкальные вкусы — отстой, а слушать надо готический рок. С того момента все мои штудии проходили там.
«Сачок» был таким большим культурно-литературно-музыкально-житейским салоном; его постоянные обитатели проводили там гораздо больше времени, чем собственно на занятиях. Смотрели на новеньких, обсуждали стареньких, спорили про вкусы, обменивались музыкой и фильмами, пересказывали книжки и теории — в общем, делали то, что делали люди до изобретения социальных сетей и рекомендательных алгоритмов. Чуть утрируя, скажу, что все, что я знаю и люблю, происходит примерно оттуда, включая лучших друзей, самых уважаемых коллег, и — last but not least — супругу Екатерину, на тот момент студентку второго курса исторического факультета и репортера журнала о ночной жизни «Не спать!».
В общем, «сачок» для меня — это сама идея университета, места, главная ценность которого — не то, чему тебя учат (лично меня учили марксизму и политическому анализу, и с первого дня было понятно, что это скорее для общего развития), а чему ты учишься сам; ощущение своего круга, свободного собрания интересных людей. И для меня это привязано к месту, которого в том виде уже нет: корпусу в стиле советского модернизма, который предполагает, что здание — это пространство встреч, а не набор комнат. Студенты всегда и везде как-то группируются после или взамен занятий, хоть в Московском университете, хоть в Школе дизайна Вышки, где я сейчас работаю. Но когда я знакомлюсь с новым курсом и рассказываю про себя, я обычно говорю, что я бы очень хотел учиться, как они, со смыслом и с целью, за исключением одного — у нас тут нет места для «сачка». Кажется, такие места вообще куда-то делись — вместе с временами, когда такое могло случиться.
Юлия Савельева, основатель телеграм-канала Watch & Jewel. С 1991 по 1996 год - студентка отделения истории искусства исторического факультета МГУ:
Если ты не тусовался на «сачке», значит, ты зря учился в Первом ГУМе! То есть учился, конечно, но очень-очень скучно. «Сачок» был эпицентром флирта, женской и мужской дружбы, формировал компании, которые потом тусовались уже на вечеринках на квартирах и в клубах, определял музыкальные пристрастия (мы обменивались записями для кассетных магнитофонов) и, в конце концов, моду того времени! Кто в чем пришел, кто что где достал, купил или получил из-за границы. Кстати, ответственно заявляю, что носить шубу с кроссовками придумали именно мы — молодежь из поколения Х. Помню, как мы, студентки истории искусства, отправились на практику в Новгород, где каждый день ходили по древним церквям, а посещать их можно было только в юбках и платках. Поэтому мы выглядели так: обязательные тогда джинсовка и кроссовки, а между ними - юбка. Вскоре мы уже спокойно носили кроссовки с разными платьями и шубами. Хотя главной униформой «сачка» были кожаные косухи, рваные джинсы, казаки и чоперы. Причем так ходили и парни, и девчонки, так что унисекс тоже изобрели мы.
Со многими с «сачка» мы плавно перетекли в только-только зарождающуюся глянцево-журнальную и ночную жизнь Москвы начала 2000-х. Для пары моих материалов в журнал «ОМ» снимала Катя Павелко, тогда еще фотограф. B Harper's Bazaar мы трудились одновременно с Анзором Канкуловым. Кстати, одним из тех омовских материалов было интервью с Сергеем Бодровым-младшим, тогда нашим близким товарищем и partner in crime. До сих пор дико больно, что он сегодня не с нами. Хотя мой однокурсник, режиссер и кинопродюсер Иван Болотников, снял в спродюсированном им фильме «Велга» дочь Сережи Ольгу — и небольшая женская часть «сачка» рыдала на его премьере два года назад, как когда-то рыдала в финале «Кавказского пленника» на премьере в Доме кино в 1996-м.
И так же весь «сачок» в 1997 году ходил на премьеру фильма «Святой», поскольку наш товарищ Николай Табашников был дублером Вэла Килмера в эпизодах, что снимались в Москве.
С «сачка» вышли люди, которые так или иначе повлияли на то, что происходило в жизни Москвы в новом миллениуме — и влияют поныне. Было бы преувеличением утверждать, что наше мировоззрение сформировал «сачок», все-таки к нему прилагался серьезный образовательный столп МГУ, но ощущение, что «весь мир у наших ног», привил именно «сачок».
А самое сильное воспоминание, которое возникает в голове при слове «сачок», такое. Дело было не на первом этаже, а на втором, в буфете — огромном пространстве с колоннами и высоченными потолками (тусовка плавно перетекала то туда, то на первый этаж). Как обычно, кто-то сидел на батареях, кто-то стоял за барными столиками, и вдруг откуда-то возник кассетник, врубили Guns N' Roses и все, как один, начали танцевать под November Rain — парами или по одиночке. Это было настоящее торжество юности и свободы — и в этом весь дух «сачка».
Юрий Сапрыкин, руководитель спецпроектов медиа «Кинопоиска». С 1990 по 1995 год - студент философского факультета МГУ:
Про «сачок» сложно сказать, что там, собственно, происходило. Там торчала разномастная публика и всегда можно было найти повод не пойти на пару. Тут же рядом торговали книгами, где-то сбоку играли в покер, прямо по центру вывешивали некрологи, как в «Служебном романе» — «Слышали? Бубликов умер!». Повсеместно курили и пили пиво. Лица, знакомые оттуда, я потом часто встречал в разных редакциях, аудиториях и ютьюб-роликах, но дело даже не в этом. Через много лет, когда в России появилась урбанистика, я вдруг понял, что мне напоминают новомодные городские понятия и концепты. Ну, вы понимаете: «общественное пространство», уличный театр, где все одновременно и участники, и зрители, город как место встречи с незнакомцами. Фигура бодлеровского фланера, во всем как-то участвующего и ни во что особенно не погруженного. К повседневной Москве, с ее неизбежными пробежками на холодном ветру от метро к «Пятерочке», это как-то не вполне клеится, а к «сачку» подходит как влитое. Идеальный город, который теперь уже окончательно перешел в сферу бестелесных идей, куда не довезет никакое «Яндекс. Такси», но который всегда рядом.